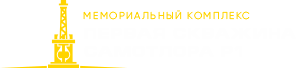Воспоминания
Отт Виктор Иоганесович
Я родился в 1948 году в семье нефтяников. Отец – Отт Иоганес Иоганесович – работал оператором по добыче нефти в нефтепромысловом управлении «Кинельнефть» (г. Похвистнево Куйбышевской обл.). Там же, в качестве машиниста нефтеперекачивающей станции, работал и мой дед – Отт Иоганес Генрихович. С малых лет я видел нефтяные скважины и катался на деревянных тягах группового привода станков-качалок. Поэтому передо мной не стоял вопрос: кем быть?
После окончания школы в 1966 г. поступил в Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева на нефтяной факультет, который закончил в 1972 году, получив квалификацию горного инженера по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений.
Проработав оператором и старшим технологом по добыче нефти в НГДУ «Первомайнефть» (г. Отрадный, Куйбышевской обл.) производственного объединения «Куйбышевнефть», в конце 1975 года я переехал в город Нижневартовск.
При поступлении на работу в НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В. И. Ленина я был приглашен для собеседования к главному инженеру Федору Николаевичу Маричеву и начальнику ГИТС Василию Егоровичу Добрынину. Знакомство с Самотлором началось с КСП-10, на который я ехал по бесконечной, как мне показалось, бетонной дороге, прорубленной через зимний лес. Здесь я встретил своих будущих наставников-начальников: Орлова Геннадия Иосифовича, Силаева Александра Михайловича, Иванова Виктора Николаевича и моих будущих соратников: Королева Сергея Владимировича, Шибакина Сергея Николаевича, Захарова Леонида Григорьевича и многих, многих других тружеников Самотлора.
В 1978 году решением руководства объединения «Нижневартовскнефтегаз» в лице главного инженера Маричева Ф. Н., я был «отлучен» от Самотлора и назначен главным инженером НГДУ «Покачевнефть», начальником которого был всем известный Равгат Миниханович Закиров. Это было время освоения новых месторождений.
В 1981 году, теперь уже генеральным директором объединения «Нижневартовскнефтегаз» Маричевым Ф. Н. было принято решение о моем возвращении на Самотлор. Начиналось строительство и создание уникального, грандиозного по масштабам газлифтного комплекса Самотлорского месторождения. До этого такой сложности и такой единичной мощности газовых компрессорных станций на Самотлоре не строили и не эксплуатировали. За три с половиной года было введено 11 компрессорных станций на новом для нефтяников импортном – французском и японском – оборудовании. Газлифтный комплекс, после завершения его строительства, обеспечивал более 25% добычи нефти Самотлора. Именно этим определялась значимость безостановочной работы комплекса и мера ответственности каждого работника газлифтного управления.
В 1984 году мне предложили вернуться из «газовиков» в нефтяники и возглавить вновь образованное НГДУ «Черногорнефть», которому было поручено осваивать северо-восточную часть Самотлорского месторождения.
Через год был назначен главным инженером и еще через полтора года – генеральным директором ПО «Нижневартовск-нефтегаз», добывавшего к этому времени почти каждую третью тонну нефти в Советском Союзе. Пришлось приложить немало сил для того, чтобы вывести объединение на плановую суточную добычу, ликвидировать допущенное отставание и выполнить повышенные социалистические обязательства. Усилия оправдали ожидания: в 1987 году нефтяники Нижневартовска добыли более 2,5 миллиона тонн сверхплановой нефти.
Всего в 1987 году добыча нефти в стране составила фантастические 624 млн тонн, из них 410 млн тонн добыли нефтяники Западной Сибири. И здесь считаю нужным высказаться о целесообразности объемов нефтедобычи. И сейчас считаю, и тогда говорил, что планы, которые с каждой пятилеткой становились все более грандиозными, не соответствовали политике разумной разработки недр. Тот же Самотлор – жемчужину, основное месторождение в Советском Союзе, с объемом запасов 3 млрд тонн (такого нигде в стране больше нет!) – мы перегрузили. Не скажу, что загубили, но перегрузили основательно. Уровень добычи нефти по проекту там был порядка 100-120 млн тонн в год – это колоссальная цифра, но его вывели больше, чем за 150 млн. Конечно, перебор. Неслучайно сегодня на Самотлоре объем нефтедобычи не выше 20-22 млн тонн в год при предельно большой обводненности.
В 80-е в «Главтюменнефтегазе» был в ходу такой термин – «предельщики». Уже в открытую говорили о том, что не хватает технологической и инфраструктурной базы, чтобы выполнять бесконечно нарастающие планы. В 1988 году, после того, как мне, генеральному директору «Нижневартовскнефтегаза», предложили в сентябре принять дополнительный план в 5 млн тонн, я счел необходимым не согласиться, понимая, что выполнить эту задачу в сложившихся условиях невозможно. В производственном объединении дело закончилось сменой руководства, для меня – далекой командировкой, но дополнительные обязательства так и не были исполнены…
Все то, чему меня научили Самотлор, Нижневартовск и мои учителя, сослужило мне добрую, неоценимую помощь во всей моей дальнейшей работе, и я им безмерно благодарен и обязан всей своей профессиональной судьбой нефтяника. В 90-х годах начался новый период в моей жизни: я работал главным инженером объединения «Тенгизнефтегаз» (1989-1991 гг.), председателем Комитета нефтяной и газовой промышленности Министерства топлива и энергетики России (1992-1993 гг.), первым вице-президентом государственной нефтяной компании «Роснефть» (1993-1996 гг.) и первым заместителем министра Минтопэнерго России (1996-1998 гг.).
Также я являлся руководителем с российской стороны крупного международного проекта по строительству «Каспийского трубопроводного консорциума», организовывал освоение новых нефтегазовых регионов в Оренбургской и Астраханской областях, участвовал в проектах по добыче нефти и газа, строительству нефтепромысловых объектов за рубежом.
...Это не только моя автобиография. Это часть легендарной биографии Самотлора и Нижневартовска. И славных биографий всех людей, посвятивших свои лучшие, молодые годы служению делу, нефти, Самотлору, Нижневартовску и Отчизне! Я горд и счастлив тем, что жил и работал рядом с ними, в одном строю!
ВОСПОМИНАНИЯ
– Приехав молодым специалистом на Самотлор в 1975 году, в 1986-1989 годах уже работал на различных руководящих должностях в «Нижневар-товскнефтегазе», покинув объединение в ранге генерального директора. Вот как он отзывается о том периоде:
– Я и сейчас считаю, и тогда говорил, что планы, которые с каждой пятилеткой становились все более грандиозными, не соответствовали политике разумной разработки недр, – откровенно заявляет нефтяник сегодня. – Тот же Самотлор мы перегрузили. Не скажу, что загубили, но перегрузили основательно.
В 80-е уже в открытую говорили о том, что не хватает технологической и инфраструктурной базы, чтобы выполнять бесконечно нарастающие планы. Уровень нефтеотдачи по проекту там был порядка 100 -120 млн тонн в год — это колоссальная цифра, но месторождение вывели больше, чем за 150 млн. Конечно, перебор. Неслучайно сегодня на Самотлоре объем нефтедобычи не выше 20-22 млн тонн в год при предельно большой обводненности.
Начало моей работы в качестве первого заместителя министра топлива и энергетики РФ фактически совпало с началом программы радикальной реорганизации нефтяной отрасли и формированием новой структуры, ключевыми элементами которой стали ВИНК – вертикально интегрированные нефтяные компании, сосредоточившие в рамках единого производ-ства геологоразведку, нефтедобычу, нефтепереработку и реализацию нефтепродуктов.
Мне пришлось стать одним из участников разработки концепции реформы отрасли. В 1991 г. было образовано Министерство топлива и энергетики РФ, а в начале 1992-го мы начали прицельно заниматься этим вопросом. Законотворческим итогом этой деятельности стал Указ Б. Н. Ельцина № 1403 в ноябре 1992 года, который зафиксировал реорганизацию нефтяной промышленности в стране и создание ВИНК. В то время уже формировались ЛУКОЙЛ и ЮКОС, на выходе был «союз» «Сургутнефтегаза» с НПЗ в Ленинградской области.
Тогда же были созданы «Татнефть», «Башнефть» – региональные компании и большое государственное предприятие «Роснефть», консолидировавшее все остальные производственные объединения – наследников советской нефтяной промышленности. Приоритетной задачей «Роснефти» являлось продолжение начатых реформ, а также дальнейшая организация ВИНК. В апреле 1993 г. я пришел в ГП «Роснефть» в качестве первого вице-президента, и мы с коллегами совместно с Минтопэнерго начали реализовывать эту программу.
Было подготовлено такое предложение: территория страны делилась на семь зон, в каждой из которых предполагалось создание ВИНК – все они были максимально сбалансированы по объемам добычи, переработки, нефтепродуктообеспечения. По итогам реализации программы баланса не получилось: количество ВИНКов значительно превысило планируемое. Появились компании, которые не предполагались к созданию, однако были пролоббированы или бизнесом (например, «Сибнефть»), или региональными властями (яркие примеры – Тюменская нефтяная компания и Восточная нефтяная компания).
Решение о создании ВИНК было правильным и своевременным – я в этом убежден. Не стань нефтепереработка частью единой системы в рамках деятельности нефтяной компании, она так и не вошла бы в зону интересов нефтедобытчиков и с высокой долей вероятности осталась бы «висеть» на госдотациях со всеми вытекающими последствиями.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
- Важный вопрос – рациональное недропользование. В чем, собственно, суть проблемы? Нефтедобыча начинается с защиты технологической схемы разработки месторождения, которая определяет фонд скважин, темп отбора жидкости, методы поддержания пластового давления и т. д. Самый простой путь – разубожить месторождение, забрать с него «легкую» нефть и остальное бросить как нерентабельное. При таком подходе коэффициент нефтеотдачи, конечно, будет стремиться к нулю…
Недра – это государственная собственность, и государство должно обеспечивать контроль их рационального использования, охрану и воспроизводство. Но по факту сегодня такого контроля нет, деятельность профильного ведомства – Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений (бывшей ЦКР) – не отвечает ни задачам, ни полномочиям, которые должны быть у такого регулирующего органа.
А в ситуации отсутствия должного государ-ственного контроля сколько угодно примеров, когда на месторождение приходит недобросовестный недропользователь, который с минимальными затратами хотел бы быстро получить нефть, быстро ее продать, а дальше – трава не расти. Те, кто так бесхозяйственно подходят к разработке, – временщики, которые не предполагают долго заниматься нефтяным бизнесом; их единственный интерес – максимальная сиюминутная прибыль.
Я отдельно выделил бы «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» – это компании «старой» закалки, которыми управляют профессиональные нефтяники, где созданы эффективные производства, с хорошими геологическими службами, долгосрочной стратегией развития и во главу угла ставится не только выгода акционеров, но и государственные интересы. Но не думаю, что так обстоят дела во всех компаниях…
А что касается малых предприятий, то давайте сравним. В США действует около 20 тысяч предприятий МСБ в нефтяной сфере (из них около 8 тысяч – добывающих). В нашей стране их не более 150 вместе с «сервисом». Едва ли не единственное исключение из общего правила – опыт Татарстана, где более 20% объема добычи приходится на малые компании. В среднем по стране этот показатель – 2%. Но я не вижу опасности в малом бизнесе. Этим компаниям, как правило, не достается перспективных участков.
Журнал «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», том 7, № 2/2017.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Говоря об уровне добычи нефти в стране, мы можем вспомнить советскую плановую экономику – времена, когда Госплан определял, условно говоря, сколько ведер бензина должно быть доставлено в конкретную деревню. Другое дело, что до места порой доходило больше или меньше, но опять же – перераспределение объемов поставок осуществлялось, исходя из плановых потребностей страны, а не краткосрочных частных интересов.
Сегодня о Госплане говорят часто, многие – с ностальгией, и тут важно заметить, что главная задача этого государственного органа состояла не в распределении продукции как таковом, а в создании производственных мощностей, оптимизации ресурсов и организации транспортных потоков так, чтобы производство удовлетворяло нужды огромной страны. Насколько эффективной была его деятельность – тема отдельного разговора, но в любом случае имело место стратегическое государственное планирование, базировавшееся на основополагающем принципе: «Сколько продукции нужно стране?». А кто сейчас ответит на этот вопрос, в том числе, касательно нефтедобычи?
Политика в этой области сегодня определяется позицией отдельных владельцев компаний, а не государственными интересами. Но государство должно участвовать в управлении нефтяной отраслью. Пусть не методами Госплана – они не безупречны, да и жизнь изменилась. Но никто не отменял необходимость развития производства, исходя из потребностей страны, а не частных лиц и организаций.
...Мы гонимся за добычей и экспортируем колоссальное количество сырья. Зачем? Сегодня продажа углеводородов дает российскому бюджету почти 40% доходов – это та самая зависимость от нефтедолларов, об избавлении от которой так много говорится в последнее время. Но мы не особенно спешим слезть с «нефтяной иглы» и тем самым воспитываем иждивенцев: сельское хозяйство, машиностроение, остальные подождут, можно не торопиться. Пока мы продаем столько нефти, деньги будут: что не производим сами – купим. Очевидно, что этот путь развития – тупиковый…
Кто сегодня точно знает, сколько нефти нужно для решения государственных задач? Ответ: «Чем больше, тем лучше» неправильный. Нефть – невозобновляемый ресурс, за ним – наши дети и внуки, и отвечать за свои сиюминутные решения нам придется перед ними.
После окончания школы в 1966 г. поступил в Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева на нефтяной факультет, который закончил в 1972 году, получив квалификацию горного инженера по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений.
Проработав оператором и старшим технологом по добыче нефти в НГДУ «Первомайнефть» (г. Отрадный, Куйбышевской обл.) производственного объединения «Куйбышевнефть», в конце 1975 года я переехал в город Нижневартовск.
При поступлении на работу в НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В. И. Ленина я был приглашен для собеседования к главному инженеру Федору Николаевичу Маричеву и начальнику ГИТС Василию Егоровичу Добрынину. Знакомство с Самотлором началось с КСП-10, на который я ехал по бесконечной, как мне показалось, бетонной дороге, прорубленной через зимний лес. Здесь я встретил своих будущих наставников-начальников: Орлова Геннадия Иосифовича, Силаева Александра Михайловича, Иванова Виктора Николаевича и моих будущих соратников: Королева Сергея Владимировича, Шибакина Сергея Николаевича, Захарова Леонида Григорьевича и многих, многих других тружеников Самотлора.
В 1978 году решением руководства объединения «Нижневартовскнефтегаз» в лице главного инженера Маричева Ф. Н., я был «отлучен» от Самотлора и назначен главным инженером НГДУ «Покачевнефть», начальником которого был всем известный Равгат Миниханович Закиров. Это было время освоения новых месторождений.
В 1981 году, теперь уже генеральным директором объединения «Нижневартовскнефтегаз» Маричевым Ф. Н. было принято решение о моем возвращении на Самотлор. Начиналось строительство и создание уникального, грандиозного по масштабам газлифтного комплекса Самотлорского месторождения. До этого такой сложности и такой единичной мощности газовых компрессорных станций на Самотлоре не строили и не эксплуатировали. За три с половиной года было введено 11 компрессорных станций на новом для нефтяников импортном – французском и японском – оборудовании. Газлифтный комплекс, после завершения его строительства, обеспечивал более 25% добычи нефти Самотлора. Именно этим определялась значимость безостановочной работы комплекса и мера ответственности каждого работника газлифтного управления.
В 1984 году мне предложили вернуться из «газовиков» в нефтяники и возглавить вновь образованное НГДУ «Черногорнефть», которому было поручено осваивать северо-восточную часть Самотлорского месторождения.
Через год был назначен главным инженером и еще через полтора года – генеральным директором ПО «Нижневартовск-нефтегаз», добывавшего к этому времени почти каждую третью тонну нефти в Советском Союзе. Пришлось приложить немало сил для того, чтобы вывести объединение на плановую суточную добычу, ликвидировать допущенное отставание и выполнить повышенные социалистические обязательства. Усилия оправдали ожидания: в 1987 году нефтяники Нижневартовска добыли более 2,5 миллиона тонн сверхплановой нефти.
Всего в 1987 году добыча нефти в стране составила фантастические 624 млн тонн, из них 410 млн тонн добыли нефтяники Западной Сибири. И здесь считаю нужным высказаться о целесообразности объемов нефтедобычи. И сейчас считаю, и тогда говорил, что планы, которые с каждой пятилеткой становились все более грандиозными, не соответствовали политике разумной разработки недр. Тот же Самотлор – жемчужину, основное месторождение в Советском Союзе, с объемом запасов 3 млрд тонн (такого нигде в стране больше нет!) – мы перегрузили. Не скажу, что загубили, но перегрузили основательно. Уровень добычи нефти по проекту там был порядка 100-120 млн тонн в год – это колоссальная цифра, но его вывели больше, чем за 150 млн. Конечно, перебор. Неслучайно сегодня на Самотлоре объем нефтедобычи не выше 20-22 млн тонн в год при предельно большой обводненности.
В 80-е в «Главтюменнефтегазе» был в ходу такой термин – «предельщики». Уже в открытую говорили о том, что не хватает технологической и инфраструктурной базы, чтобы выполнять бесконечно нарастающие планы. В 1988 году, после того, как мне, генеральному директору «Нижневартовскнефтегаза», предложили в сентябре принять дополнительный план в 5 млн тонн, я счел необходимым не согласиться, понимая, что выполнить эту задачу в сложившихся условиях невозможно. В производственном объединении дело закончилось сменой руководства, для меня – далекой командировкой, но дополнительные обязательства так и не были исполнены…
Все то, чему меня научили Самотлор, Нижневартовск и мои учителя, сослужило мне добрую, неоценимую помощь во всей моей дальнейшей работе, и я им безмерно благодарен и обязан всей своей профессиональной судьбой нефтяника. В 90-х годах начался новый период в моей жизни: я работал главным инженером объединения «Тенгизнефтегаз» (1989-1991 гг.), председателем Комитета нефтяной и газовой промышленности Министерства топлива и энергетики России (1992-1993 гг.), первым вице-президентом государственной нефтяной компании «Роснефть» (1993-1996 гг.) и первым заместителем министра Минтопэнерго России (1996-1998 гг.).
Также я являлся руководителем с российской стороны крупного международного проекта по строительству «Каспийского трубопроводного консорциума», организовывал освоение новых нефтегазовых регионов в Оренбургской и Астраханской областях, участвовал в проектах по добыче нефти и газа, строительству нефтепромысловых объектов за рубежом.
...Это не только моя автобиография. Это часть легендарной биографии Самотлора и Нижневартовска. И славных биографий всех людей, посвятивших свои лучшие, молодые годы служению делу, нефти, Самотлору, Нижневартовску и Отчизне! Я горд и счастлив тем, что жил и работал рядом с ними, в одном строю!
ВОСПОМИНАНИЯ
– Приехав молодым специалистом на Самотлор в 1975 году, в 1986-1989 годах уже работал на различных руководящих должностях в «Нижневар-товскнефтегазе», покинув объединение в ранге генерального директора. Вот как он отзывается о том периоде:
– Я и сейчас считаю, и тогда говорил, что планы, которые с каждой пятилеткой становились все более грандиозными, не соответствовали политике разумной разработки недр, – откровенно заявляет нефтяник сегодня. – Тот же Самотлор мы перегрузили. Не скажу, что загубили, но перегрузили основательно.
В 80-е уже в открытую говорили о том, что не хватает технологической и инфраструктурной базы, чтобы выполнять бесконечно нарастающие планы. Уровень нефтеотдачи по проекту там был порядка 100 -120 млн тонн в год — это колоссальная цифра, но месторождение вывели больше, чем за 150 млн. Конечно, перебор. Неслучайно сегодня на Самотлоре объем нефтедобычи не выше 20-22 млн тонн в год при предельно большой обводненности.
Начало моей работы в качестве первого заместителя министра топлива и энергетики РФ фактически совпало с началом программы радикальной реорганизации нефтяной отрасли и формированием новой структуры, ключевыми элементами которой стали ВИНК – вертикально интегрированные нефтяные компании, сосредоточившие в рамках единого производ-ства геологоразведку, нефтедобычу, нефтепереработку и реализацию нефтепродуктов.
Мне пришлось стать одним из участников разработки концепции реформы отрасли. В 1991 г. было образовано Министерство топлива и энергетики РФ, а в начале 1992-го мы начали прицельно заниматься этим вопросом. Законотворческим итогом этой деятельности стал Указ Б. Н. Ельцина № 1403 в ноябре 1992 года, который зафиксировал реорганизацию нефтяной промышленности в стране и создание ВИНК. В то время уже формировались ЛУКОЙЛ и ЮКОС, на выходе был «союз» «Сургутнефтегаза» с НПЗ в Ленинградской области.
Тогда же были созданы «Татнефть», «Башнефть» – региональные компании и большое государственное предприятие «Роснефть», консолидировавшее все остальные производственные объединения – наследников советской нефтяной промышленности. Приоритетной задачей «Роснефти» являлось продолжение начатых реформ, а также дальнейшая организация ВИНК. В апреле 1993 г. я пришел в ГП «Роснефть» в качестве первого вице-президента, и мы с коллегами совместно с Минтопэнерго начали реализовывать эту программу.
Было подготовлено такое предложение: территория страны делилась на семь зон, в каждой из которых предполагалось создание ВИНК – все они были максимально сбалансированы по объемам добычи, переработки, нефтепродуктообеспечения. По итогам реализации программы баланса не получилось: количество ВИНКов значительно превысило планируемое. Появились компании, которые не предполагались к созданию, однако были пролоббированы или бизнесом (например, «Сибнефть»), или региональными властями (яркие примеры – Тюменская нефтяная компания и Восточная нефтяная компания).
Решение о создании ВИНК было правильным и своевременным – я в этом убежден. Не стань нефтепереработка частью единой системы в рамках деятельности нефтяной компании, она так и не вошла бы в зону интересов нефтедобытчиков и с высокой долей вероятности осталась бы «висеть» на госдотациях со всеми вытекающими последствиями.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
- Важный вопрос – рациональное недропользование. В чем, собственно, суть проблемы? Нефтедобыча начинается с защиты технологической схемы разработки месторождения, которая определяет фонд скважин, темп отбора жидкости, методы поддержания пластового давления и т. д. Самый простой путь – разубожить месторождение, забрать с него «легкую» нефть и остальное бросить как нерентабельное. При таком подходе коэффициент нефтеотдачи, конечно, будет стремиться к нулю…
Недра – это государственная собственность, и государство должно обеспечивать контроль их рационального использования, охрану и воспроизводство. Но по факту сегодня такого контроля нет, деятельность профильного ведомства – Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений (бывшей ЦКР) – не отвечает ни задачам, ни полномочиям, которые должны быть у такого регулирующего органа.
А в ситуации отсутствия должного государ-ственного контроля сколько угодно примеров, когда на месторождение приходит недобросовестный недропользователь, который с минимальными затратами хотел бы быстро получить нефть, быстро ее продать, а дальше – трава не расти. Те, кто так бесхозяйственно подходят к разработке, – временщики, которые не предполагают долго заниматься нефтяным бизнесом; их единственный интерес – максимальная сиюминутная прибыль.
Я отдельно выделил бы «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» – это компании «старой» закалки, которыми управляют профессиональные нефтяники, где созданы эффективные производства, с хорошими геологическими службами, долгосрочной стратегией развития и во главу угла ставится не только выгода акционеров, но и государственные интересы. Но не думаю, что так обстоят дела во всех компаниях…
А что касается малых предприятий, то давайте сравним. В США действует около 20 тысяч предприятий МСБ в нефтяной сфере (из них около 8 тысяч – добывающих). В нашей стране их не более 150 вместе с «сервисом». Едва ли не единственное исключение из общего правила – опыт Татарстана, где более 20% объема добычи приходится на малые компании. В среднем по стране этот показатель – 2%. Но я не вижу опасности в малом бизнесе. Этим компаниям, как правило, не достается перспективных участков.
Журнал «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», том 7, № 2/2017.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Говоря об уровне добычи нефти в стране, мы можем вспомнить советскую плановую экономику – времена, когда Госплан определял, условно говоря, сколько ведер бензина должно быть доставлено в конкретную деревню. Другое дело, что до места порой доходило больше или меньше, но опять же – перераспределение объемов поставок осуществлялось, исходя из плановых потребностей страны, а не краткосрочных частных интересов.
Сегодня о Госплане говорят часто, многие – с ностальгией, и тут важно заметить, что главная задача этого государственного органа состояла не в распределении продукции как таковом, а в создании производственных мощностей, оптимизации ресурсов и организации транспортных потоков так, чтобы производство удовлетворяло нужды огромной страны. Насколько эффективной была его деятельность – тема отдельного разговора, но в любом случае имело место стратегическое государственное планирование, базировавшееся на основополагающем принципе: «Сколько продукции нужно стране?». А кто сейчас ответит на этот вопрос, в том числе, касательно нефтедобычи?
Политика в этой области сегодня определяется позицией отдельных владельцев компаний, а не государственными интересами. Но государство должно участвовать в управлении нефтяной отраслью. Пусть не методами Госплана – они не безупречны, да и жизнь изменилась. Но никто не отменял необходимость развития производства, исходя из потребностей страны, а не частных лиц и организаций.
...Мы гонимся за добычей и экспортируем колоссальное количество сырья. Зачем? Сегодня продажа углеводородов дает российскому бюджету почти 40% доходов – это та самая зависимость от нефтедолларов, об избавлении от которой так много говорится в последнее время. Но мы не особенно спешим слезть с «нефтяной иглы» и тем самым воспитываем иждивенцев: сельское хозяйство, машиностроение, остальные подождут, можно не торопиться. Пока мы продаем столько нефти, деньги будут: что не производим сами – купим. Очевидно, что этот путь развития – тупиковый…
Кто сегодня точно знает, сколько нефти нужно для решения государственных задач? Ответ: «Чем больше, тем лучше» неправильный. Нефть – невозобновляемый ресурс, за ним – наши дети и внуки, и отвечать за свои сиюминутные решения нам придется перед ними.
Вы можете предложить фотографии данного человека после регистрации
Руководитель ПО «Нижневартовскнефтегаз» (1987-1988 гг), руководитель НГДУ «Черногорнефть».
Внес значительный вклад в освоение и разработку нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
Почетный нефтяник (1995). Награжден орденом «Знак Почета» (1986), орденом Почета (1998 г.), медалью. Член Совета Союза нефтегазопромышленников России.
Член Совета Союза нефтегазопромышленников России.
Внес значительный вклад в освоение и разработку нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
Почетный нефтяник (1995). Награжден орденом «Знак Почета» (1986), орденом Почета (1998 г.), медалью. Член Совета Союза нефтегазопромышленников России.
Член Совета Союза нефтегазопромышленников России.